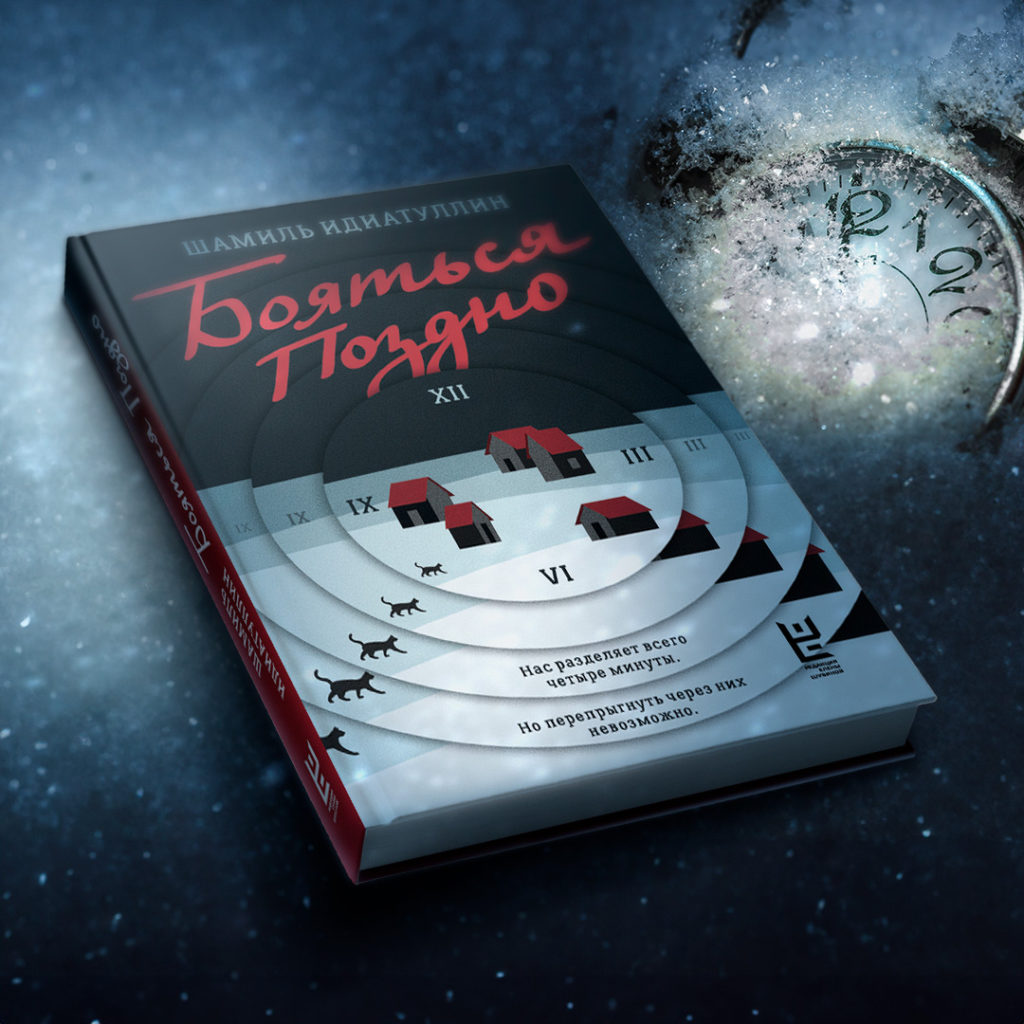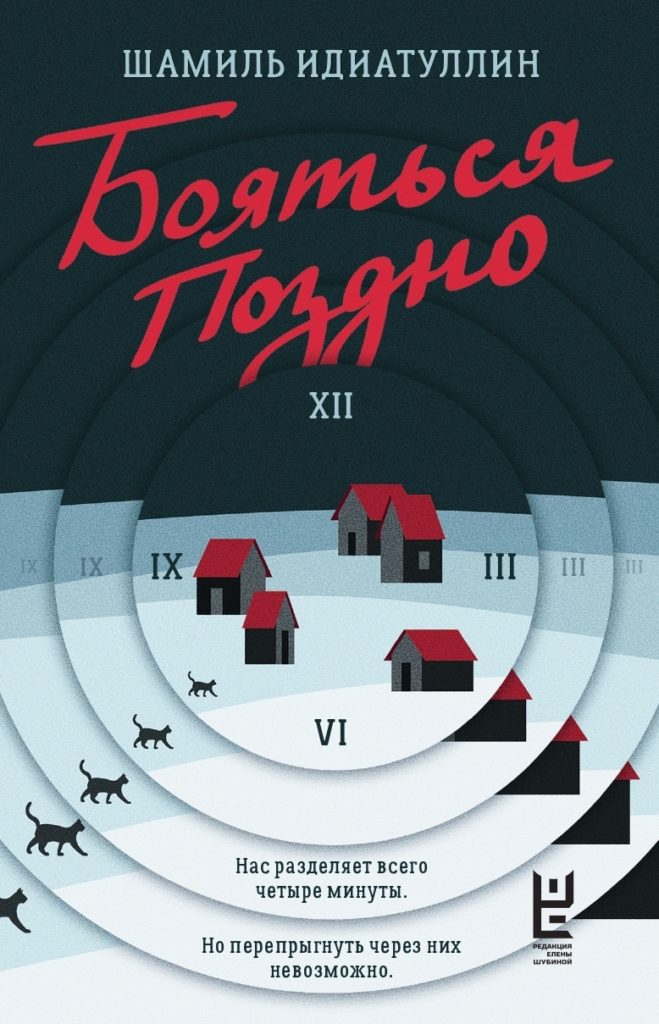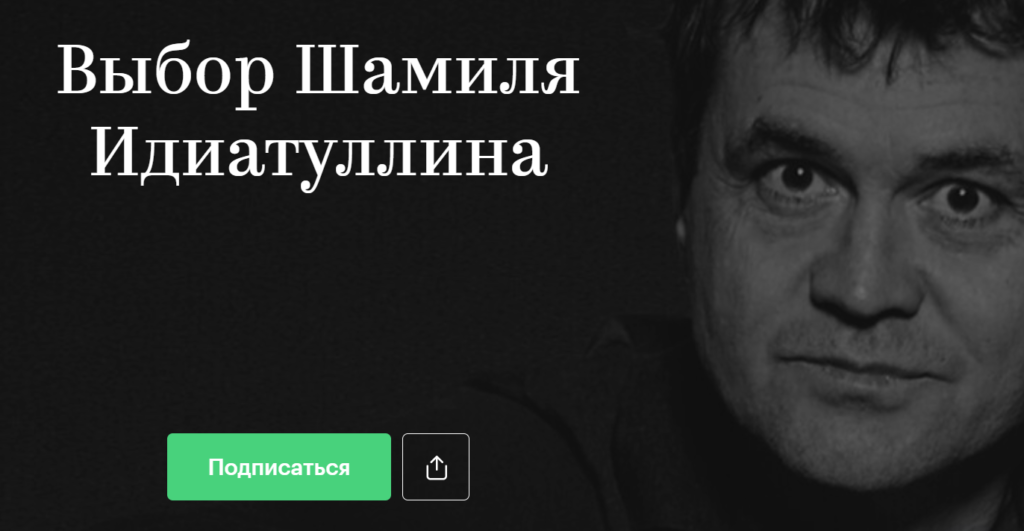Несколько месяцев назад я по просьбе друга разгадал (возможно) древнюю окололитературную загадку, совершенно об этом забыл, сейчас наткнулся на ту переписку, искренне изумился и решил выложить в паблик, чтобы легче искать было, если что.
Часть первая. Диалог
— Шаукатович, ты случайно не знаешь твоих земляков, написавших в восьмидесятых в СтэМе повесть про врача-туриста, который с девчонкой в поездке познакомился и у них всё было хорошо? Не могу ни название вспомнить, ни авторов, там был псевдоним, а авторов чуть ли не четверо?
— Хм. Даже не слышал. Но я никогда фанатом СтМ не был.
— Яссн.
Часть вторая. Что за дела
То обстоятельство, что я совершенно не знаю ни текста, нашумевшего в период моего самого яростного чтения всего подряд, ни его авторов, меня малость изумило и завело. (Правда, уже в процессе поисков я вроде вспомнил, что году в 87-88 меня кто-то из старших товарищей по редакции вроде спрашивал, читал ли я таинственную интересную повесть — и, узнав, что не, усиленно рекомендовал. Но ручаться за то, что воспоминание подлинное, а не придуманное, я, конечно, не могу.)
Кроме того, выяснилось, что раз в пять лет в рунете кто-то вяло принимался искать или спрашивать про ту повесть, но ответа не находил.
И я пошел искать.
Часть третья. Поиск повести
1. [Многочисленные чуть подправляемые запросы по словам «Студенческий меридиан», 1980-е, «повесть», «врач турист», « Студенческий меридиан проза» «герой врач разговор в купе» «псевдоним», «коллективный псевдоним», «казанские авторы студенты», «Татарстан», «Татария», «ТАССР молодые авторы» и т. д.]. Безрезультатно.
2. [Поиск в сети библиографий, описаний, сканов журнала с 1980 по 1989 годы или фотографий отдельных номеров, продающихся на сайтах типа «Авито» и «Мешок»]. Нужный номер не попадается.
3. [Поиск по приблизительным цитатам, приведенным в ЖЖ и форумах пользователями, искавшими следы той же повести ранее]. С десятого, что ли, раза, удается зацепиться за пару битых ссылок, потом — за действущую.
4. Повесть найдена в виде пдф, сделанной неизвестно кем из вордовского файла, в свою очередь представляющего собой OCR журнальных страниц.
5. Повесть найдена. «Столкновение обстоятельств». Автор Ришат Садиев, «СтМ» №9 за 1986 г.
6. Предисловие редакции:
«Эта повесть пришла в редакцию из Казани. Из приложенного к ней письма мы с удивлением узнали, что написана она не одним человеком, а целым коллективом бывших участников СТЭМов казанских и неказанских вузов. Выбранные для автора имя и фамилия — всего лишь аббревиатура, а в основу повести лег реальный, поразивший авторов факт. Не без сомнения взялись мы читать повесть, но с первых же страниц она покорила нас своей искренностью, живостью и какой-то веселой злостью. Мы как бы воочию увидели перед собой компанию очень сыгранных ребят, которые, подсказывая друг другу, подавая реплики вперемежку с песнями любимых бардов, выясняли для себя, что такое истинная интеллигентность. И мы решили, что большинству из вас будет интересно познакомиться с творчеством этой замечательной студенческой команды.»
7. Первый абзац повести:
«История действительно началась с того, что в поезде парень приставал к девушке. Вошел в вагон, подсел и предложил замуж. Был трезв, но развязен. Скорее из тех, у кого все понятия сдвинуты по фазе. Экстерьер вполне подходящий: заслуженные джинсы, рюкзак, палатка, гитара в чехле, борода, пустые глаза. Один из многих сомнительных летних ходоков по родным просторам. Девушка, видимо, была из них же, но, по крайней мере, ни к кому не приставала.»
Часть четвертая. Определение авторов
После этого, естественно, текст обнаружился практически во всех пиратских библиотеках. Правда, псевдоним не раскрывался ни там, ни где бы то ни было еще. Но на некоторых ресурсах Ришату Садиеву (еще и с отчеством «Мирза-Ахмедыч») приписывалась еще одна повесть — «То день, то вечер» (возможно, традиционным образом нигде не печатавшаяся).
Стиль и слог повестей совпадали до степени смешения, обеим был предпослан бардовский автограф (к первой — строки Городницкого, ко второй — Ланцберга).
Предисловие ко второй повести завершалось так:
«Когда будешь читать, следи, где чьи показания. Там, где написано «Самосвал» — это наш Гошенька, Гошка-друг, а ежели официально, по-большому — енто Игорь Михайлович Абрамов, врач помбригады «Скорой помощи» в городе Набережные Челны, по неуточненным данным. Большой дядя комплекции известного казанского барда, некогда комментатора радиостанции «Юность» Леонида Сергеева. (…) Там, где «Муха», «Мохов», «Малыш», «Шура Маленький» — это Шурик Мохов.
Часть пятая. Вывод
Таким образом, авторами обеих повестей с огромной долей вероятности выступили Леонид Сергеев, Игорь Абрамов и Александр Мохов — если, конечно, исключить ненулевую вероятность второго слоя мистификации. Но докопаться до него мы уже, боюсь, не сможем: Сергеев умер прошлым летом, а про Абрамова и Мохова я никаких данных не нашел.
В любом случае, есть сомнения в том, что кто-нибудь из авторов к 1986 году был казанским студентом. Сергеев, например, тогда делал карьеру на Гостелерадио и был уже всесоюзно знаменит песнями «Колоколенка» и «Снимается кино» («Сдвой ряды, снимаем сцену в бане»), скетчами в культовой телепередаче Андрея Кнышева «Веселые ребята» и участием в одном из первых «Музыкальных рингов». На его сайте ни одна из повестей упомянута не была — а теперь и весь сайт доступен только через веб-архив, увы.
Эпилог
Зато повести общедоступны. Вряд ли они понравились бы мне в 80-е, но в искренности, живости и наполненности духом времени им правда не откажешь.

Леонид Сергеев в «Веселых ребятах» тех лет